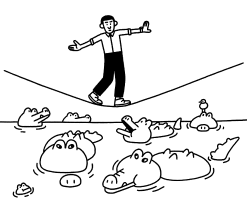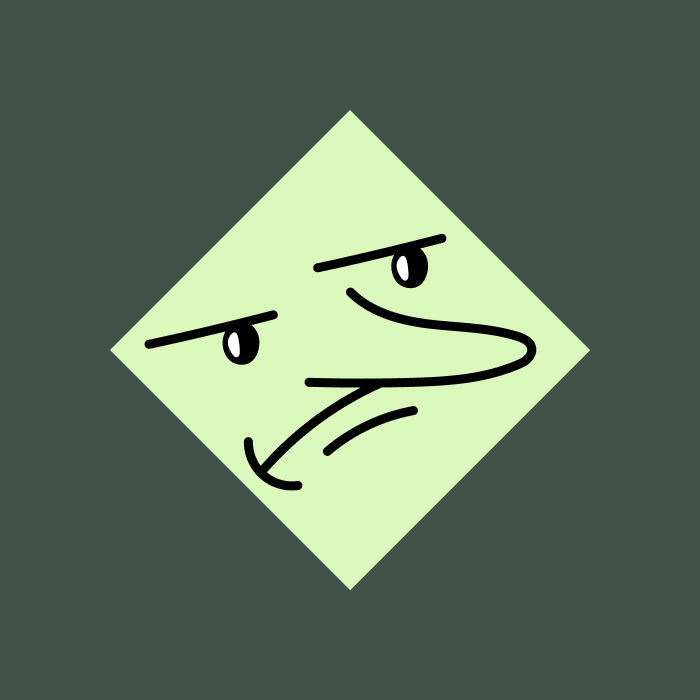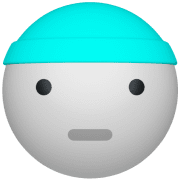«Средний класс определяет, станет ли кризис травмой». Экономист — о влиянии кризисов на психику
Психологические эффекты экономического кризиса — для отдельного человека и общества в целом

Когда экономика переживает тяжелые времена, люди теряют работу и сбережения.
Многим требуются годы, чтобы снова встать на ноги. Трудности, с которыми приходится сталкиваться во время кризиса, влияют на образ мыслей и финансовые решения, даже если сложности давно позади и проблем с деньгами нет.
Как крупные экономические кризисы сказались на мышлении и поведении россиян и как повлияют на них текущие события, мы расспросили проректора по корпоративным проектам Российской экономической школы Максима Буева.
— Какой психологический эффект на человека оказывает экономический кризис?
— Эффект универсален во всех странах: страхи перед инфляцией и безработицей — и их последствиями. Даже если человек не теряет работу, сама угроза безработицы может тревожить его настолько, что стресс станет хроническим. Если он все же потеряет работу, то с большей вероятностью переживет депрессию, особенно, как показывают исследования, если долго будет искать новое место.
Хотя психологические эффекты экономического кризиса и проявляются более или менее одинаково во всех странах, стрессу меньше подвержены люди там, где есть так называемая social safety net — система социальной поддержки уязвимых групп населения. Один из ее аспектов — поддержка безработных.
Благодаря social safety net жизнь человека, даже если он остается без работы, меняется не так болезненно: пособие по безработице позволяет ему хоть как-то возместить потерянный доход. Знание об этом дает человеку ощущение безопасности во время кризиса и защищает от хронического стресса. Если же человек понимает, что не получит никакой значимой помощи от государства, его ментальное здоровье может пострадать.
Исследования последствий разных кризисов, например мирового финансового кризиса 2008 года, показывают: проблемы вроде увеличения числа самоубийств меньше всего проявляются в странах, где хорошо развиты социальные институты. Поэтому перед лицом кризисов россияне, скорее всего, чувствуют себя более уязвимо, чем, например, жители Швеции, Финляндии или Норвегии. А значит, страх инфляции и безработицы в России может быть сильнее, а ментальные проблемы, связанные с ними, — более распространенными.
— Как опыт переживания кризисов в прошлом влияет на отношение к ним в настоящем?
— Опыт, национальные травмы — еще один фактор, который влияет на психологический эффект экономического кризиса в той или иной стране. Например, у нас распространен страх перед дефолтом, потому что до сих пор жива память о кризисе и дефолте 1998 года.
Тогда люди пострадали от кризиса, самой понятной большинству частью которого был дефолт. Так мы решили, что дефолт — это всегда страшно и больно. У экономистов такие эффекты называются ложной корреляцией: некие два события происходят в один и тот же момент, и в сознании людей закрепляется связь между ними, хотя настоящей причиной может быть какое-то третье событие.
В 1998 таким «третьим событием» были плохие макроэкономические показатели страны, например низкий объем золотовалютных резервов, а также неразвитость банковской системы. Налоги собирались плохо, был распространен бартер, зарплаты задерживали или вовсе не платили. В итоге плохая макроэкономическая политика привела к дефолту и обесцениванию российской валюты и рублевых сбережений, которая стала экономической катастрофой национального масштаба.
Этот момент — дефолт приводит к катастрофе — закрепился в сознании людей. Появилась фиксация на курсе рубля, хотя при иной макроэкономической политике, тем более сейчас, он не так сильно влияет на жизнь большинства россиян.

— Почему опыт 90-х все еще вызывает у многих сильные эмоции?
— До дефолта произошли другие события, которые многие воспринимают как трагедию: распад страны на части, смена политического режима и экономической системы. Все это совпало с ростом преступности. Например, некоторые ветераны войны 1980-х годов в Афганистане и стареющие спортсмены из-за безработицы пошли в банды, стали зарабатывать рэкетом. Поскольку государственные структуры разваливались, милиция не могла эффективно с этим бороться.
Вместе с тем не получили должной поддержки и социальные институты — те самые social safety nets, о которых мы говорили. Параллельно наука, образование, здравоохранение оказались существенно недофинансированы. Поэтому сильно пострадал средний класс: учителя, академики, врачи. Поначалу им было особенно сложно найти себя в новой экономической системе. Тем временем именно средний класс — это те люди, действия которых определяют, будет ли кризис восприниматься как травма целым обществом.
Есть такой экономист-финансист Роберт Шиллер, нобелевский лауреат. Он на старости лет занялся нарративной экономикой — то есть исследованием экономики с точки зрения нарративов, историй. Шиллер считает, что экономикой управляют именно они: происходит некое событие, люди описывают его — и оно запоминается так, как было описано, а позже через память влияет на мышление и поведение людей.
Память передается через тех, кто может об этом связно написать или красиво рассказать, — через средний класс, образованных людей. Из-за того, что эти люди сильно пострадали при распаде СССР, возник коллективный миф о том, что в процессе Россию якобы поставили на колени. Он впоследствии привел ко многим реакционным процессам в политике.
Другой пример того же феномена — это немцы и их отношение к инфляции. В 2015 году опрос показал, что высокая инфляция — один из самых распространенных страхов в Германии. СМИ даже писали о «немецкой одержимости инфляцией». Этот иррациональный страх — следствие того, что у немцев все еще жива коллективная память о гиперинфляции 1920-х годов.
Почти в каждой немецкой семье сохранились истории о прадедушках и прабабушках, которые жили в нищете и меняли фамильные драгоценности на еду, поскольку деньги стремительно обесценивались. В 1922 году покупательная способность марки упала в 17 раз за полгода.
Однако та инфляция — далеко не самая тяжелая в новейшей истории. Например, гиперинфляция в Венгрии после Второй мировой войны была сильнее. Несмотря на это, у венгров нет фиксации на курсе валюты и такого сильного страха перед инфляцией. Почему же у немцев образовалась коллективная травма?
После поражения в Первой мировой войне и в период Веймарской республики от экономических проблем, связанных с репарациями, сильнее всего пострадали немецкие академики, учителя, священники. Поколение за поколением эти люди часто жили на доход от ренты, сдавая жилье внаем. В то время, когда случилась гиперинфляция, государство изменило налоговое законодательство так, что рантье стали платить больше налогов, а их возможность повышать арендную плату ограничили.
В итоге реальные доходы среднего класса стремительно падали. В силу образованности люди могли все это описать — что они и сделали. Писатели и журналисты красиво все изложили, и в сознании общества закрепилась параллель между гиперинфляцией и национальной трагедией, хотя другие слои общества в Германии тогда пострадали гораздо меньше.
— Как экономические травмы из-за кризисов влияют на экономические решения людей?
— Во время кризиса человек ведет себя совсем не так, как в спокойные времена. Экономический кризис — это всегда период высочайшего уровня неопределенности, когда ты можешь лишиться работы и сбережений. В такой ситуации большинство людей будут думать не о том, чтобы получить что-то еще, а о том, чтобы не потерять то, что есть. В итоге человек, который не склонен рисковать, может пойти на существенный риск, ввязаться в различного рода авантюры — и в итоге только ухудшить ситуацию.
Такие действия связаны с активностью миндалевидного тела — амигдалы, части головного мозга, которая реагирует на страх и неопределенность. Когда амигдала активируется, происходит выброс гормонов, подготавливающих организм к борьбе с источником опасности или бегству от него. А кризис — это ситуация, в которой может происходить так называемый amygdala hijack. Это захват амигдалой центров головного мозга, которые ответственны за рациональное мышление. Нерациональное в человеке перебивает рациональное.
То есть серьезной угрозы может и не быть, но миндалевидное тело запускает сильную эмоциональную реакцию, несоизмеримую с фактическим стимулом. Действия человека становятся нерациональными. Подробно об этом я и мой соавтор Кирилл Ильинский пишем в книге «В зеркале супермоделей. Рассказы о моделях в финансовой экономике».
Кроме того, есть любопытная, явно российская специфика реагировать на смутные времена и экономические кризисы значительным выводом капитала из страны. Есть исследование французского экономиста Тома Пикетти, где он приводит такие цифры: за 25 лет после распада СССР из России разными способами вывели порядка 200—300% объема национального дохода, то есть несколько триллионов долларов — больше, чем вся страна сейчас производит за целый год. Часть этих денег упакована в яхты и особняки, часть лежит в банке.
Желание вывозить деньги и инвестировать их вне страны, видимо, имеет исторические причины: это связано с экономическими потерями при распаде СССР и даже с потерями при революции 1917 года. Россияне не верят в политическую и экономическую стабильность и при первой возможности выводят деньги за границу.
В контексте текущей ситуации это делает нашу страну более уязвимой для международных санкций: если бы этот капитал не выводился, если бы мы, наоборот, инвестировали его внутри страны, еще и привлекая иностранные инвестиции, то арестовывать и замораживать за границей было бы нечего. В связи с этим страны, привлекающие иностранный капитал, гораздо более устойчивы к санкциям вроде тех, с которыми столкнулась Россия в этом году.

— Кто больше всего пострадает от текущего экономического кризиса?
— Разные страты общества по-разному переживают кризис. Например, на образ жизни очень бедных людей кризис сильно не влияет.
Во-первых, быстрее всего кризис ударяет по большим глобализованным городам — Москве, Петербургу. В регионы кризис доходит медленнее, и это прямое следствие работы экономических механизмов. «Экономическое время» зависит от уровня деловой активности в стране, регионе. Чем больше встреч, сделок — тем быстрее это время течет, тем быстрее проявляются эффекты кризиса.
Во-вторых, санкции и ограничения импорта напрямую не затрагивают бедных: они и так не могли позволить себе дорогую импортную продукцию. Если ты выезжаешь из Москвы и едешь в бедный регион, например в Кабардино-Балкарию, видишь, что там большая часть машин на улицах — отечественного производства. У владельцев этих автомобилей сейчас будет меньше проблем с поиском сервисного центра и запчастей, чем у обладателей условных Мерседесов.
Однако бедные слои населения сильнее пострадают от роста цен на продукты, потому что большая часть дохода этих людей и так уходит на еду. Когда цены на продукты вырастут, придется тратить на них еще больше — и на другие покупки денег не останется совсем.
В то время как люди побогаче перестанут ходить в условную «Азбуку вкуса» и переключатся на «Пятерочку», бедные, которые и так всегда ходили в «Пятерочку», сократят до минимума покупки дорогих продуктов вроде мяса и овощей и будут питаться гречкой и макаронами. Возможно, им даже не будет хватать денег на жизненно необходимые вещи вроде лекарств. С этой точки зрения бедные пострадают от кризиса больше других.
— Типичная реакция на угрозу кризиса в России — это потребительская паника и накопительство. Эта реакция характерна и для жителей других стран, но, кажется, в меньшей степени. Почему мы так реагируем?
— Это действительно русская особенность, прежде всего связанная даже не с 90-ми, а с экономикой позднего СССР.
Государство было сфокусировано на соперничестве с капиталистическими странами, главным образом — с США, и инвестировало деньги в те отрасли экономики, где победа в гонке приносила очевидные политические дивиденды. Надо было иметь лучшее оружие, лучшие космические аппараты и лучших спортсменов.
Однако на другие отрасли экономики денег не хватало — граждане страдали от дефицита даже самых необходимых товаров и были сильно ограничены в выборе. Например, в Ленинграде в 1980-е мыло и спички продавали по талонам. При любой возможности жители покупали как можно больше таких товаров впрок. Эта же потребительская привычка сработала в феврале этого года — даже у тех, кто не застал дефицит, потому что живые свидетели того дефицита рассказали, как тогда все было.
Кроме того, жива коллективная память о Второй мировой войне. Например, я из Петербурга и вырос на историях о голоде в блокаду. Еще в детском саду петербургским детям говорят: не доедать — это недопустимо. В итоге я не могу уйти из ресторана, оставив что-то на тарелке.
Тот же паттерн поведения дальше передастся новым поколениям петербуржцев — не только потому, что они будут расти на историях о блокаде, но и из-за того, что травма одного поколения может передаваться на эпигенетическом уровне.
То есть из-за травмы меняется экспрессия генов — то, как организм «читает» ДНК. Например, есть исследования о том, как голод из-за блокады некоторых городов в Нидерландах во время Второй мировой войны повлиял на экспрессию генов потомков тех, кто пережил эти события. Блокада Ленинграда в этом свете изучена несравненно хуже. Также интересно, наблюдаются ли в Голландии такие же поведенческие эффекты в плане пищевых привычек, как в Петербурге.

— Иногда россиян упрекают в излишней фиксации на комфорте и потреблении. Якобы нам свойственен слишком сильный страх перед снижением уровня жизни. Так ли это?
— Фиксация на потреблении — это, как мне кажется, естественный этап развития в большинстве своем бедного в материальном смысле общества, какими мы были в позднем СССР. Тут можно провести параллели с различными пирамидами удовлетворения потребностей, где человек по мере появления ресурсов двигается от более материального к менее материальному.
Страх снижения уровня жизни — это тот самый страх потерять то, что есть, о котором мы говорили ранее. Перед лицом опасности таких потерь главная задача — избежать принятия излишне импульсивных решений. На практике это не всегда легко сделать, но иногда можно. Здесь я советую обратиться к книге Канемана «Думай медленно… решай быстро», которая раскладывает по полочкам процесс принятия нами решений, различные поведенческие огрехи и когнитивные ловушки, в которые мы попадаем.
Как мне кажется, вероятность фиксации на потреблении будет ниже, если у человека есть любимое дело или интересное увлечение. Такие занятия занимают его гораздо больше, чем приобретение новых вещей или достижение более высокого уровня комфорта. Другое дело, что некоторые люди могут увлечься чем-то нематериальным только после того, как удовлетворят свои базовые материальные потребности.
Знания о психологии и работе мозга, которые помогут выжить в этом безумном мире — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @t_dopamine.