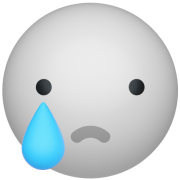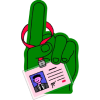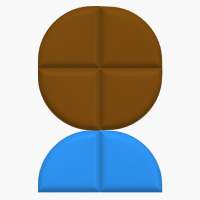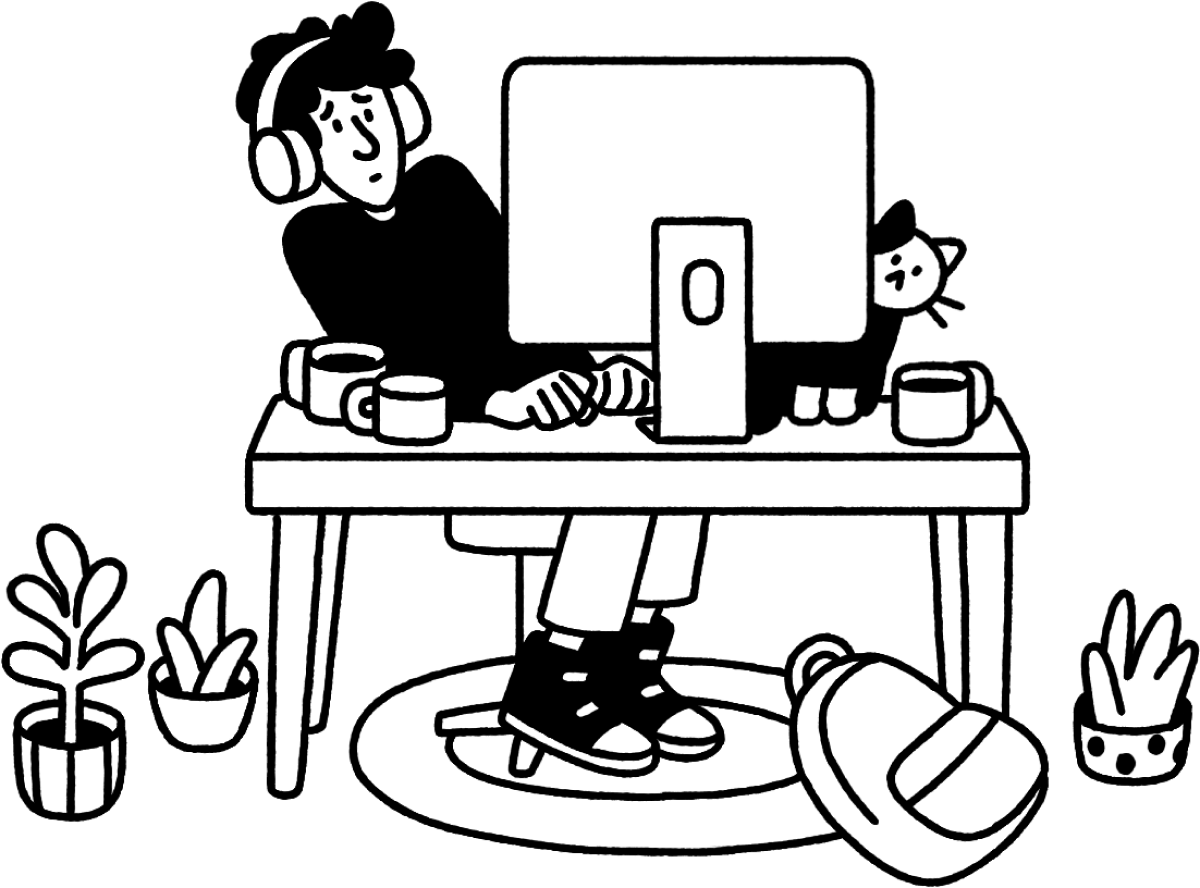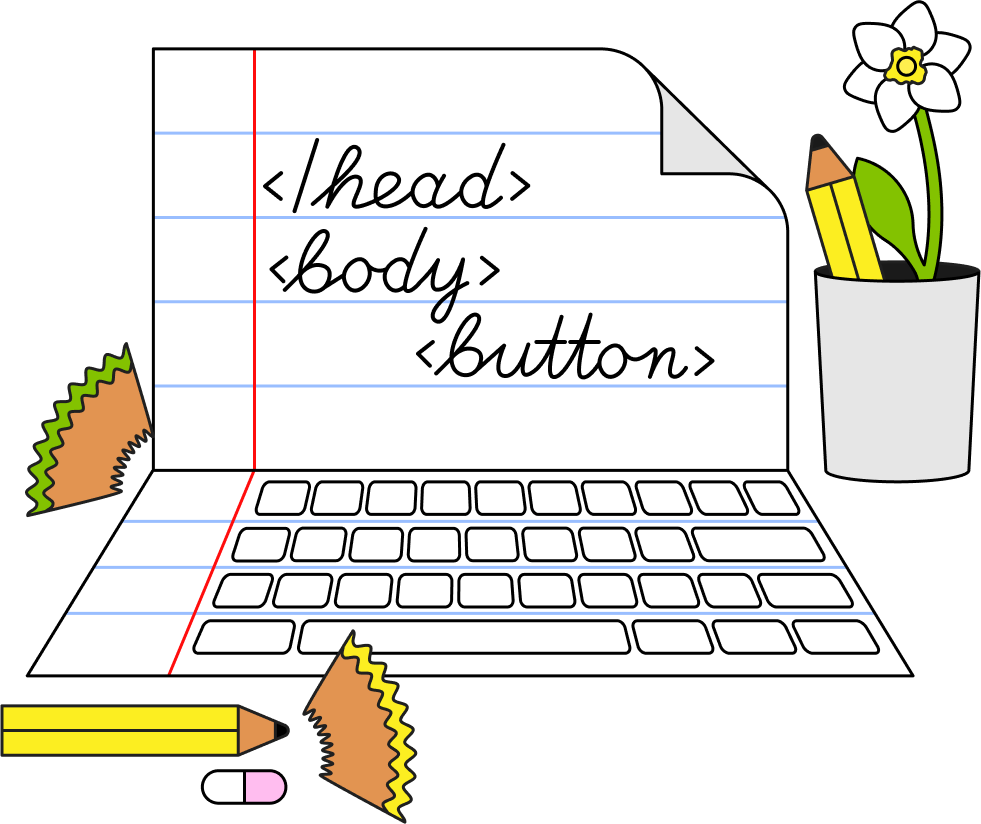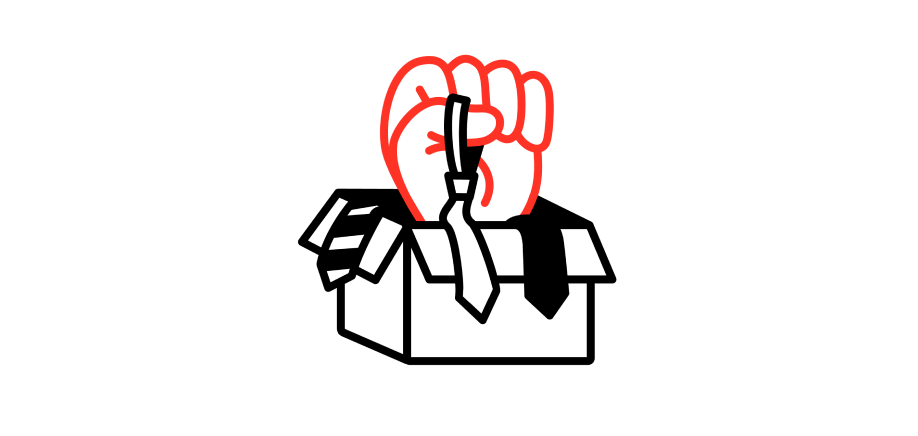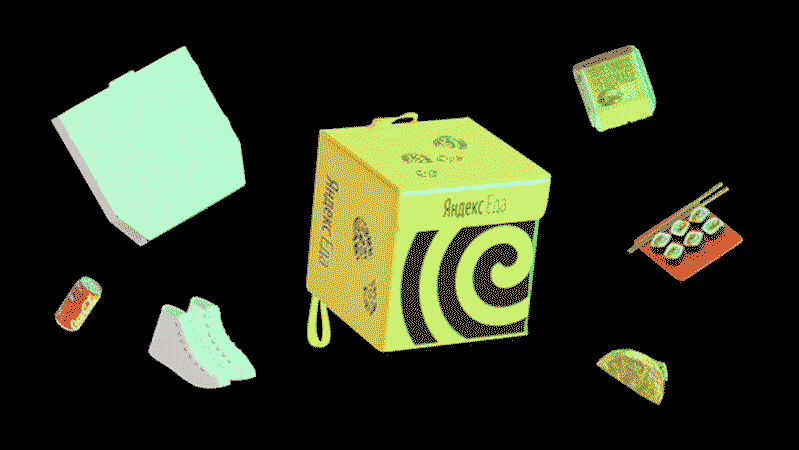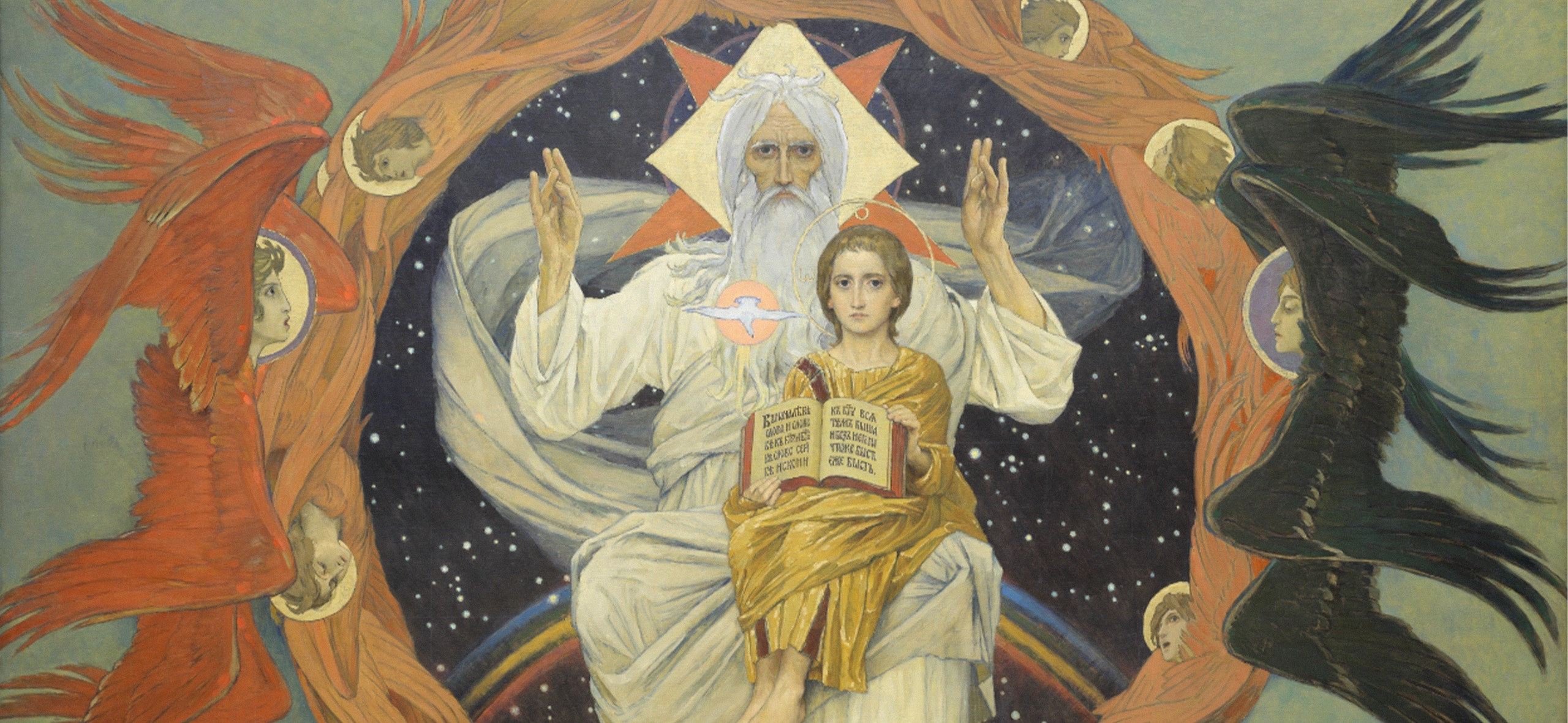«Получал тысячи сообщений на арабском»: сколько зарабатывает куратор иностранных студентов в медвузе
Читатели продолжают делиться с нами историями о своих профессиях.
После армии новый герой рубрики выбирал между работой в кофейне, полиции и мединституте. В итоге устроился в вуз, где курировал иностранных студентов, но через год уволился из-за выгорания. Он рассказал о том, что не так с университетским документооборотом, в чем особенности работы со студентами из других стран и можно ли осваивать медицину в России без знания русского и английского.
Это история из Сообщества. Редакция задала вопросы, бережно отредактировала ее и оформила по стандартам журнала.

Выбор профессии
По образованию я учитель начальных классов и английского языка, но ни дня не работал по специальности. Проявив недальновидность при выборе профессии, я так и не нашел интересную мне нишу в преподавании. Когда столкнулся с реальностью учительской жизни на практике, понял, что это совсем не мое. Да и учителям-мужчинам в финансовом плане, на мой взгляд, приходится сложнее.
Отслужив в армии, я начал искать место в сфере контент-маркетинга, где ранее недолго работал. В этот период жил у родителей, на расходы тратил накопленное. Они тоже помогали, за что им огромное спасибо.
За полгода поиски в интересующей области не увенчались успехом: мне не хватало опыта. Нужно было начать работать стабильно, а где и за какие деньги — уже не столь принципиально. Мне повезло наткнуться на вакансию в медицинском университете — должность своего рода секретаря деканата, где ключевым и едва ли не единственным требованием было знание английского языка. С ним проблем у меня не было никогда, а остальные тонкости, например документооборот, освоить недолго.
Помню, у меня было назначено три собеседования в один день.
Помимо университета, от отчаяния я также рассматривал работу баристой в кофейне и полицейским патрульно-постовой службы — профессии с низким порогом вхождения, которые были мне плюс-минус интересны. Сейчас понимаю, что ни в том, ни в другом месте своим я бы точно не стал.
В итоге пошел собеседоваться только в вуз, где мне предложили выйти на неоплачиваемую стажировку, пока готовится справка об отсутствии судимости. Сработала чуйка, что надо идти именно туда.
В ожидании справки я месяц каждый день ходил стажироваться с 14:00 до 18:00. Меня обучала сотрудница отдела — студентка университета, которая работала там около двух лет и собиралась увольняться: на старших курсах медвузов студенты все-таки стараются устроиться по специальности. Стажировка оказалась очень нужной. Учебный процесс в университете почти непрерывный, и на эту должность нельзя назначить совсем нового человека: он сразу же растеряется от широкого пула задач. Поэтому было важно втянуться, понаблюдать, как все работает.
С первого же дня я начал что-то потихоньку делать: нарезал фотографии для студенческих билетов и зачетных книжек, заполнял их от руки. Постепенно приступал к более важным делам, в конце концов перенял обязанности у бывшей сотрудницы и уже после январских каникул попал в самую гущу работы.
Место работы
Департамент, где я работал, отвечал за обучение иностранных граждан, визовый и миграционный контроль, сотрудничество с зарубежными вузами и организациями, студенческие обмены. Университет, например, организовывал лекции преподавателей из других стран, совместные исследования с учеными из Германии, Франции, Турции, Индии. Из направлений для практики — Болгария, Мексика и Бразилия: студенты оттуда приезжали к нам, а наши ездили туда. Практика длилась от двух до четырех недель и включала в себя экскурсии по университету и медицинским учреждениям города, культурную программу.
Мой отдел отвечал за обучение иностранцев. Там были только я и мой руководитель — заведующий отделом, которого все называли деканом.
Не прошло и двух недель с начала моей работы, как в департаменте освободились полставки по смежному направлению — визовому и миграционному контролю, — они тоже перешли мне. В идеале я должен был помогать с миграционным учетом, но из-за большого количества основных обязанностей только подменял сотрудницу во время ее отпуска — занимался минимальной обработкой студенческих документов, а также отвозил бумаги в миграционный центр. Это нужно было, например, когда кому-то делали регистрацию в общежитии или продлевали визу.
Сотрудников в университете скорее ценят. В каждом департаменте, конечно, все складывается по-разному, но у нас был достаточно устоявшийся коллектив, в который удалось влиться и мне.
Повышения у меня так и не случилось, но я был к нему близок.
Осенью 2021 года меня приглашали перейти в новый отдел в департаменте информатизации, который должен был заниматься электронными расписаниями и учебными планами. Однако к моменту моего увольнения в феврале 2022 года он так и не появился на свет.

Суть профессии
Я курировал несколько сотен студентов — юридически они числились не на факультете, а у нас, в отделе международного образования. Когда я пришел, их было около 450, на момент моего увольнения количество выросло до 700.
Мы вели «лечебников», стоматологов, фармацевтов, педиатров. На лечебном деле и стоматологии формировались иностранные группы, которые почти не пересекались с россиянами — кроме лекций, и то редко. А фармацевтов и педиатров из-за немногочисленности присоединяли к группам с местными студентами.
Основная часть иностранцев приезжала из ближнего зарубежья: Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, в меньшей степени Азербайджана и Кыргызстана. Ребята из Казахстана были преимущественно русскоговорящими, с ними было максимально просто контактировать. Остальные знали русский язык чуть хуже, но общению это не мешало.
Студенты из стран Центральной Азии доброжелательны, отзывчивы и любят дарить подарки. Из Казахстана нам привозили шоколад и коньяк, ребята-узбеки угощали огромными тарелками плова, которого хватало даже на «соседей» из департамента охраны труда, парни из Таджикистана приносили фрукты и овощи.
Одного студента мы грозились не допустить до защиты, и он принес нам пакет помидоров, чтобы задобрить.
Не могу сказать, что именно это помогло, но в итоге он все успешно сдал.
Еще было немного студентов из стран Центральной Африки, несколько израильских арабов и вьетнамцев, а также ребята из Колумбии и Эквадора — они запомнились своим необычным акцентом, невероятным спокойствием и расслабленностью. Что касается гендерного разделения, то парней было чуть больше: в среднем где-то 60/40.
Сами по себе иностранные студенты — очень интересные люди, многие из которых вызывают уважение, ведь решиться поехать учиться в другую страну априори непросто. Ксенофобии в университете я не видел, отношения складывались нормально. В целом все было в порядке, если не считать первого культурно-бытового шока новоприбывших от условий общежития и нескольких ситуаций, когда ребята протестовали против правил университета.
Например, был случай, когда во время Рамадана студенты-мусульмане просили перевести их на дистанционку, потому что из-за строгого поста у них не было сил посещать занятия. Мы им сказали, что университет не будет делать для них исключений, после чего они продолжили учебу в обычном режиме, бунт прекратился.
Я занимался преимущественно учебными и административными вопросами, делал практически все приказы: отчисления, восстановления, переводы, документацию по стипендиям и заселению в общежитие. Кроме этого — официальные ответы в различные организации, от посольств и зарубежных вузов до МВД и ФСБ. Для разрешения жизненных ситуаций, например в случае конфликта соседей в общаге или приставаний старосты к студентке, чаще всего обращались к декану.
Первое, с чем я столкнулся, — это зимняя сессия. Ведомости на экзамены мы тогда делали в «Экселе», и лишь к началу следующего учебного года университет со скрипом начал переходить к единой электронной базе.
Парадокс, но работать по старинке было проще: электронная система оказалась крайне сырой.
Однако ректор-технократ обязал все подразделения перейти на цифру, а деканы недоумевали, что со всем этим делать. Новыми ведомостями должны были заниматься все преподаватели, включая пожилых сотрудников. На некоторых кафедрах эту работу взваливали на и без того перегруженных ассистентов.
После сессии шли переводы и восстановления. Уходящие студенты требовали справку о периоде обучения. С младшекурсниками, особенно если зачетки велись аккуратно, проблем обычно не было: до пятого семестра экзаменов не так много. А вот если это студент старшего курса, приходилось открывать огромную старую папку, до отказа набитую рвущимися файлами с ведомостями трех-четырехлетней давности, и искать оценки, сравнивать их с написанными в зачетной книжке… Еще надо было найти курсы по выбору, чтобы их тоже вписать. У приходящих студентов после собеседования с деканом такие же справки и остальные документы собирались в личные дела.
Март и апрель — месяцы затишья. Ребята учатся и приходят редко, в основном если теряют студенческий билет или зачетку. Плюс я делал приказы об отчислении тех, кто не сдал зимнюю сессию.
В мае начинается подготовка к выпуску пятого и шестого курсов: нужно собрать всю информацию и проверить ее вплоть до правильности написания ФИО в дипломе. Обязанности несложные, но порой до некоторых старшекурсников было невозможно достучаться: телефоны не отвечают, во «Вконтакте» люди не заходят месяцами. Приходилось быть на связи со старостами.
Июнь — сессия, и основная работа здесь падает на декана: он выверяет, кому идти на пересдачи. Что касается госэкзаменов, то у будущих врачей они проходят в несколько этапов — это и тестирование, и проверка практических навыков. Считается, что если студент доучился до госов, то он точно выпустится. Даже отъявленные двоечники и прогульщики успешно оканчивали вуз.
Думаю, в том выпуске, который я курировал, из 32 человек 15—20 могли бы стать нормальными врачами.
Краснодипломников у нас тогда не было — для иностранцев это крайне редкое явление.
Выпускники из дальних стран, как правило, возвращаются на родину. В мой год такая студентка была лишь одна — из Болгарии. Большинство ребят из ближнего зарубежья получают российское гражданство и обосновываются в нашем городе. Обычно с четвертого курса они начинают работать средним медперсоналом по своему профилю — на скорой помощи, в стоматологических клиниках, в аптеках — и чаще всего там же и остаются, получив повышение.
Июль и начало августа — единственный период, когда можно взять нормальный отпуск, хотя студенты все равно продолжают писать, сколько бы ты ни делал объявлений в общей группе во «Вконтакте» и в беседе для старост.
Конец лета и начало осени — период, когда все внимание направлено на первокурсников и их родителей. Порой приказы о зачислении выходили с запозданием, и нас заваливали в соцсетях и по телефону вопросами насчет поступления, заселения в общагу. Звонили из Узбекистана, Таджикистана, иногда даже из Латинской Америки. Мы отправляли абитуриентов на сайт и просили чуть подождать, пока не появится окончательная информация. После таких бесед чувствуешь себя как чайка в меме, которая набирает воздух и орет «А-а-а». Навыки коммуникации, конечно, удалось заметно прокачать.
Переживаний первокурсникам добавила и пандемия — было много вопросов о въезде в Россию в условиях ограничений. Основные ковидные события случились до моего прихода в университет: в 2020 году студенты учились на дистанте, потом начали постепенно возвращаться в офлайн. Однако пандемия внесла и долгосрочные коррективы: лекции с тех пор проводятся только дистанционно. Даже лекционные залы постепенно начали переоборудовать в другие помещения.
При мне были небольшие «ковидные каникулы» в мае и осенью 2021 года. На мою работу это никак не повлияло, кроме дополнительных выходных. Осенью же в университете временно ввели строгий пропускной режим. Мы вздохнули с облегчением, потому что вели прием по предварительной записи и только по важным вопросам. Визитеры бунтовали, рвались в управление, но нам было все равно, охрана никого не пускала.
В сентябре и октябре мы разгребали завалы, скопившиеся за первую неделю учебного года.
Ноябрь был посвящен поступающим на англоязычную программу. Российское медицинское образование очень востребовано на Ближнем Востоке и в Индии, и практически все медвузы страны имеют одну («Лечебное дело»), а то и две-три («Стоматология», «Фармацевтика») программы на английском языке. При мне такую открыли и у нас. Тут моя работа была несколько проще: собеседования проводились сотрудниками отдельного департамента, зависеть от приемной комиссии не приходилось, да и студенты приезжали не всей толпой, а постепенно — из-за ковида в 2021 году процесс растянулся вплоть до мая.
На англоязычной программе сначала учились в основном ребята из арабских стран, преимущественно из Египта. Их было много: в первом наборе к нам приехало чуть больше 100 человек. Студенты из Египта общительные, улыбчивые, иногда даже чересчур приветливые.
Порой в автобусе приходилось отворачиваться или надевать капюшон, чтобы студенты не кричали мне на весь салон «Привет, доктор!».
Неважно, чем мы занимались, — каждый из нас для них был «доктором». А еще я отмечал специфику поведения этих ребят: они часто мешали вести занятия, шумели, их было очень сложно заставить убираться в общежитии.
Многие студентки из Египта ходили по университету в платках. Была одна девочка, которая этого не делала и подчеркивала, что ведет светский образ жизни, несмотря на принадлежность к исламу. Она еще отлично знала английский — видимо, училась в какой-то особой школе.
Удивляли меня и многосоставные имена-фамилии студентов, которые в основном варьировались между Мохамедом, Ахмедом и Махмудом. Совершенно нормальная ситуация, когда у одного и того же студента в документах три раза фигурировал Ахмед — у египтян в полное имя часто включают имена отца и деда.
Преподавание в рамках англоязычной программы велось без переводчика. По сути получалось, что русскоязычный педагог объяснял носителям арабского медицинскую терминологию на языке-посреднике. Лекции читали обычные преподаватели университета, которые либо уже более-менее владели английским, либо прошли подготовительные курсы — сначала у вуза была договоренность с частной языковой школой, позже занятия проводила кафедра. Педагогам программы, естественно, платили надбавку к зарплате.
После третьего курса появлялись и пары на русском — в случае узкоспециализированных дисциплин либо из-за недовольства пожилых сотрудников на некоторых кафедрах.
Проблема была в том, что среди студентов англоязычной программы из стран Ближнего Востока по-русски говорили лишь прошедшие «подфак» — подготовительное отделение университета, где абитуриенты изучают русский язык и предметы, необходимые для сдачи вступительных экзаменов. Более того, многие не знали и английского. Как они учились и до сих пор учатся, для меня загадка. Отсев был, конечно, большой, но наверняка некоторые до сих пор держатся на добром слове.
Когда запустилась англоязычная программа, мы на свою голову завели огромный чат в «Вотсапе» на 180 с лишним человек.
Можно представить, что я чувствовал, когда по утрам видел тысячи непрочитанных сообщений, большая часть которых была на арабском. В итоге этот безумный чат мы снесли — сделали небольшую беседу со старостами. А до этого студенты порой даже звонили: вспоминаю, как неоднократно разговаривал по телефону в забитом вечернем автобусе, пытаясь разобрать сквозь шум, что мне хотят сказать на ломаном английском.
На второй год к программе присоединились индийцы. Мне запомнились их представители — так называемые рекрутеры, которые собирают ребят по стране и за определенный процент приводят их учиться в разные вузы. Мы с рекрутерами стали хорошими друзьями и партнерами, они привозили нам индийские сладости. Больше всего мне нравились ладду — оранжевые шарики из топленого масла, — а также cоан-папди — нечто среднее между халвой, сладкой ватой и татарским талкыш калеве. А еще благодаря им я впервые попробовал чай масала.
Сейчас, насколько мне известно, расчет на программе все так же на Ближний Восток и Индию. Европейцев при мне там не было, с Китаем наш университет тоже не работал. Обсуждались варианты с Сербией и Грецией, но их так и не реализовали.
Об успешности англоязычной программы пока судить сложно, потому что ребята еще не выпустились. Однако она приносит вузу больши деньги. Бюджетных мест там нет, а обучение изначально стоило 250 000 ₽ в год против 150 000—170 000 ₽ на «классической» русскоязычной программе для иностранцев. А туда тоже, кстати, на бюджет почти не брали: бесплатно могли поступить только граждане Беларуси, Казахстана и Армении — и то, как правило, это единичные случаи.
Из не самых приятных своих обязанностей могу вспомнить списание личных дел отчисленных студентов в архив. Чаще всего отчисляют за долги по оплате обучения и неуспеваемость. В первую категорию часто попадают одни и те же рецидивисты, которые потом восстанавливаются, но их снова отчисляют за неуплату. Рекордсмен — тридцатилетний парень из Таджикистана: его отчисляли четырежды, а он трижды восстанавливался! При этом учиться он не хотел — на парах не появлялся.
Иностранных студентов также могут отчислить за нарушение режима пребывания в РФ. Однако за этим строго следила моя коллега из визово-миграционного отдела, и такого не случалось. Но был случай, когда к нам поступил студент из Египта, которого ранее депортировали во время учебы в другом российском вузе, закрыв ему въезд в страну. Мы об этом узнали, когда нам отказали в выдаче ему приглашения на въезд, — пришлось отчислять. Еще отчисляли за неподобающее поведение в общежитии: драки, курение, употребление алкоголя.
В числе напрягавших задач также были направления на отработку пропущенных занятий. Сначала я писал их от руки, но когда стали приходить двоечники, пропустившие по два-три месяца, повесил у входа в кабинет образец этого направления — начали писать сами. Не без косяков, но приучить получилось.
Приходилось также навещать студентов в общежитии, а один раз я побывал на студсовете на «показательной порке» учащихся, игнорирующих уборку комнат. Ее проводила комендант — женщина 75+ с суровой хваткой. Кроме нее, за порядком следили участники студсовета — русскоговорящие студенты из России и ближнего зарубежья. Истории были в духе «не убрал кастрюлю, что-то застоялось на кухне» — типичная бытовуха. А если десять раз не выбросил мусор, могло дойти и до выселения.
В итоге для себя я выделил такие плюсы и минусы работы в университете:
- стабильная и в целом неплохая оплата труда;
- нестандартный род деятельности, необычный жизненный опыт;
- общение с большим количеством людей, что сложно для интроверта;
- нестабильность рабочего дня, переработки и внезапные задачи;
- издержки работы в госучреждении вроде добровольно-принудительного посещения выборов или митингов;
- напряженная атмосфера, «серпентарий» в финансовом и кадровом отделах.
Рабочий день
Мое утро начиналось с обмена новостями с коллегой — завотделом визовой и миграционной работы. Новости у нее были всегда, потому что ей также приходилось общаться со студентами едва ли не 24/7.
Первая половина дня обычно была занята «бумажными» делами: написать официальный ответ, сделать приказ, наклепать студенческих билетов на группу новоприбывших.
Иногда я думал: «Вот тебе 25 лет, а ты сидишь и какие-то студаки лепишь».
После обеда в 14:00 начинался прием студентов, к этому же времени с кафедры приезжал декан. Чем ближе была сессия, тем больше ребят сидели в коридоре около нашего кабинета и ждали приема. Приходили не только студенты — это могли быть их братья, родители или представители из арабских стран. Прием длился до 18:00 — позже в корпус не пускала охрана.
Частенько случалось, что налитый утром чай оставался нетронутым до конца дня, пока я бегал туда-сюда по всему зданию, решая рабочие вопросы. Какое уж тут «пойдем попьем чайку»!
У коллег было принято задерживаться на работе. Поначалу я в этом участвовал, стеснялся оставлять рабочее место в 18:00. Однажды ушел с работы в 22:06 — тогда и понял, что такой график не для меня. Приучил себя уходить вовремя. Поскольку я был единственным, кто так делал, мне предъявляли претензии — правда, в шуточной форме. Коллегам же хотелось поработать без отвлекающих факторов, в течение дня это было непросто. А еще, вероятно, они стремились избежать пробок по пути домой. Мне повезло — я жил в 10 минутах езды от университета.
Тем не менее после 18:00 мой рабочий день не заканчивался: во «Вконтакте» и «Вотсапе» мои «двери» были открыты практически всегда. В начале сентября и во время сессий мы могли работать до 20:00—21:00. Писали все и обо всем. И поскольку большая часть студентов владеет русским не очень хорошо, у меня в переписках сохранилось немало текстовых «отжигов».
Случаи
Студенты из Египта пытались говорить с нами на смеси английского и русского. Особенность арабоязычных людей — путать «п» и «б». Поэтому, например, всем известный банк у них был «Спербанком». Однажды у одного студента в общежитии некая «камунда» забрала «барбоск». Я очень долго не мог понять, что это означает. Оказалось — комендант забрала у него пропуск. Другой студент, пытаясь переселиться в комнату друга, упорно доказывал, что старшекурсники требуют у него то ли «давление», то ли «бафление». Позже выяснилось, что речь о заявлении.
А одна студентка из Конго, выполняя домашнюю работу, списала на сайте не только решение задачи, но и матерный комментарий к нему. Нашему декану позвонила преподаватель кафедры с гневной жалобой и требовала чуть ли не отчислить бедную девушку. Мы ее успокоили, объяснили, что к чему, посмеялись над ситуацией и никаких санкций применять не стали.
Подработки
Когда трудишься в университете, возможности для подработки в теории есть, но на них нет времени. Я для себя такие варианты не рассматривал, хотя были, например, предложения стать репетитором по русскому и английскому языкам.
К слову, у многих преподавателей бывает по две-три должности: по утрам они ведут занятия, а после обеда приезжают в административный корпус, где выполняют уже другие обязанности.

Доход
Изначально я приходил на зарплату в 25 000 ₽, хотя объективно ставка тянула на 35 000—40 000 ₽. После того как добавились обязанности по визовому и миграционному контролю, доход поднялся до 43 000 ₽ — это выше, чем средний заработок сотрудника университета на стартовой позиции. Для несемейного молодого человека без кредитов и ипотеки (часть времени я жил у родителей, часть — в квартире тети за треть стоимости) — вообще круто.
Иногда мне даже было неловко получать больше, чем я заслуживал.
Но потом эти мысли ушли: понял, что надо брать по максимуму, если дают.
В конце 2021 года мои полставки в отделе визовой и миграционной работы урезали, взяв на эту должность полноценного сотрудника: там резко выросла нагрузка. Зарплата снизилась до 25 000 ₽, что и стало одной из причин ухода.
Накопить на этой работе мне удалось только на недельный отпуск в Санкт-Петербурге — около 80 000 ₽.
Расходы — примерно 16 200 ₽/месяц
| Обеды | 5 000 ₽ |
| Проживание у родственников | 5 000 ₽ |
| Продукты | 5 000 ₽ |
| Проезд | 1 200 ₽ |
Расходы — примерно 16 200 ₽/месяц
| Обеды | 5 000 ₽ |
| Проживание у родственников | 5 000 ₽ |
| Продукты | 5 000 ₽ |
| Проезд | 1 200 ₽ |
Будущее
Из университета я уволился больше года назад: эмоционально выгорел и решил искать работу в СММ. После ухода из вуза мне писали несколько студентов с вопросом, не хочу ли я вернуться. Ответом было уверенное «нет».
К выгоранию привело огромное количество коммуникации с утра до вечера. Я интроверт, и мне было сложно справляться с большим потоком общения и параллельно еще делать какие-то дела. Такая работа, на мой взгляд, подойдет молодым людям с подвижной психикой, экстравертам, которые любят общение, новые впечатления, но при этом не боятся рутины и не переживают из-за неспешности карьерного роста.
Сейчас я работаю как самозанятый СММ-специалист в спортивной сфере, это приносит мне намного больше удовлетворения и денег. Также выполняю функции пресс-атташе. Получаю в сумме около 70 000 ₽. Работа удаленная, но иногда я приезжаю в офис, посещаю мероприятия.
Возможно, следующим летом перееду в другой город со своей девушкой, выпускницей как раз того самого медицинского университета. Мы познакомились еще во времена моей работы там — она была в друзьях во «Вконтакте» у одного из моих студентов, и я обратил на нее внимание.
После переезда, думаю, займусь копирайтингом в удаленном формате. Поначалу рассчитываю на доход около 50 000 ₽ с перспективой дорасти до 70 000—80 000 ₽. Мне важно, чтобы были свободны выходные, — сейчас с этим проблемы. Хочется баланса отдыха и работы.
Когда-то я был карьеристом, но сейчас в приоритете стабильный труд и горизонтальный рост.
Хочу стать профессионалом в своем направлении, а не идти по головам. Мне нравится писать тексты, причем в больших объемах, поэтому в будущем вижу себя в этой сфере. В то же время не буду оставлять и СММ, потому что стремительный прогресс нейросетей, на мой взгляд, усложнит развитие в профессии копирайтера. А СММ — это все же более комплексное направление.